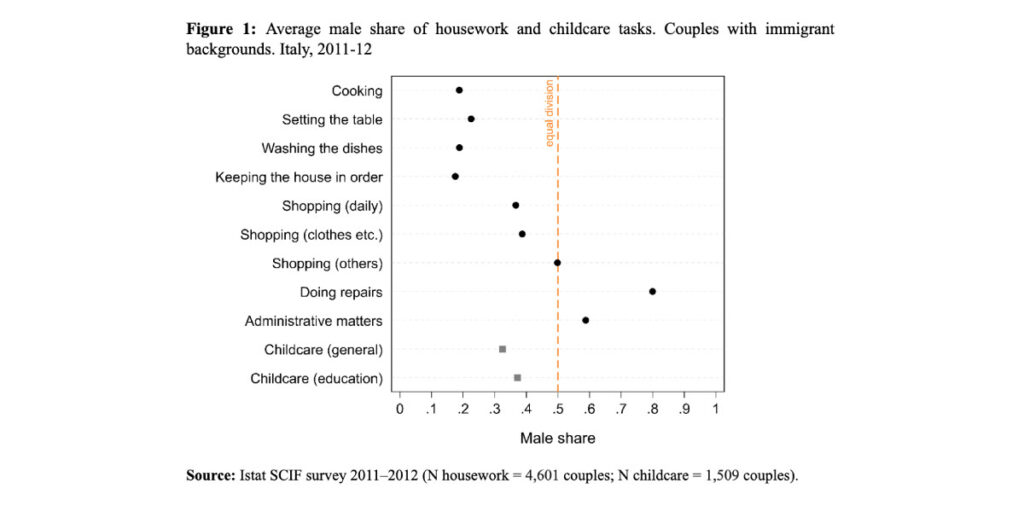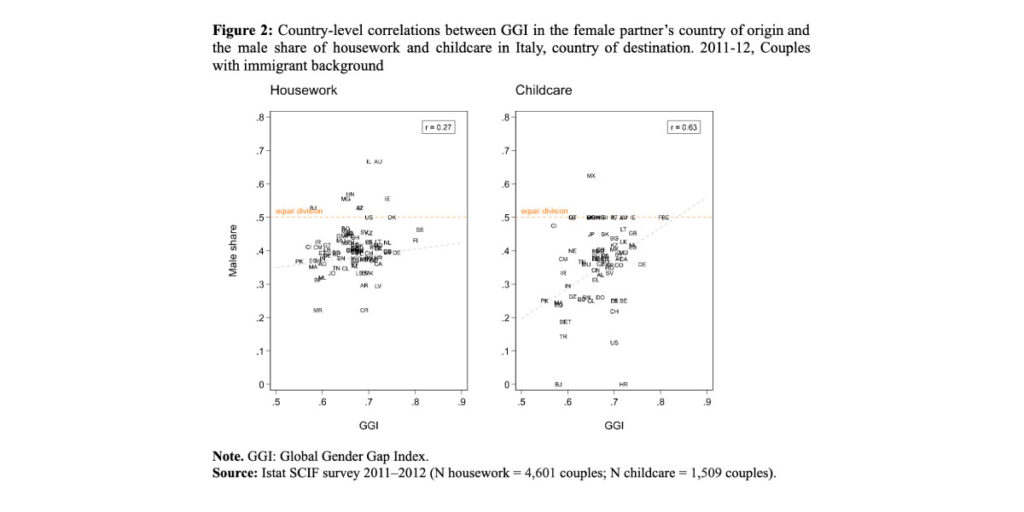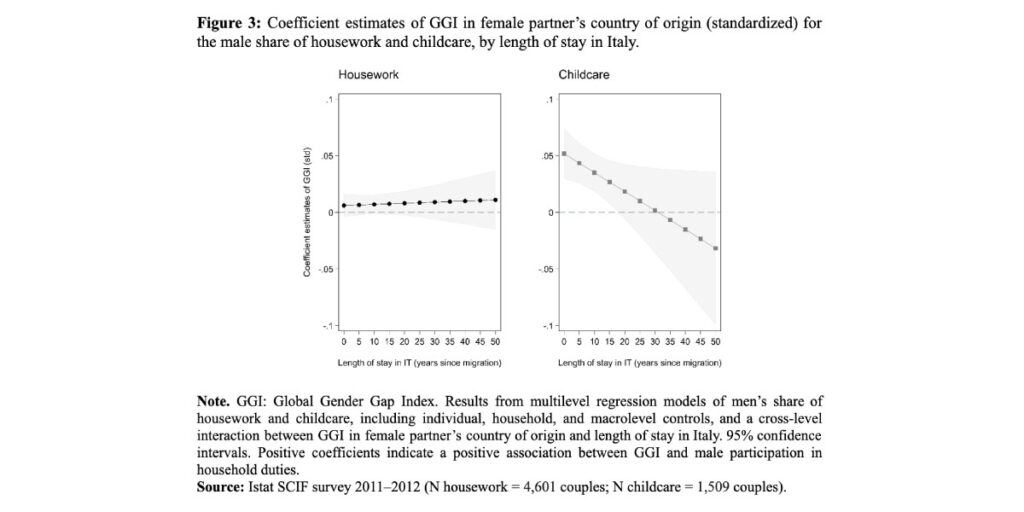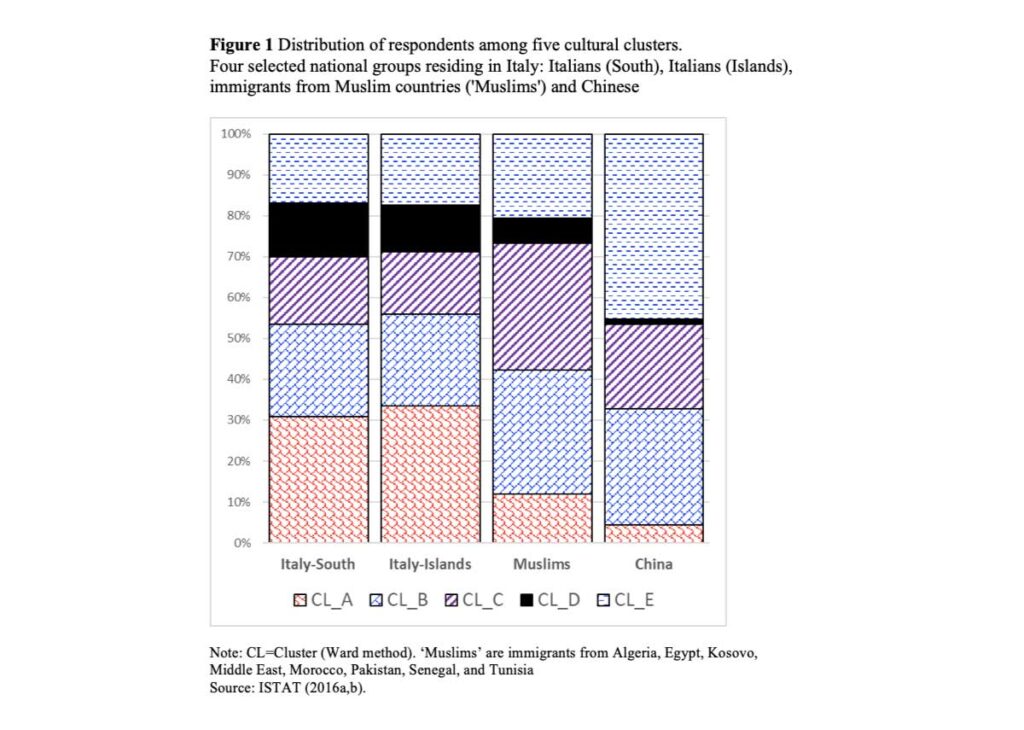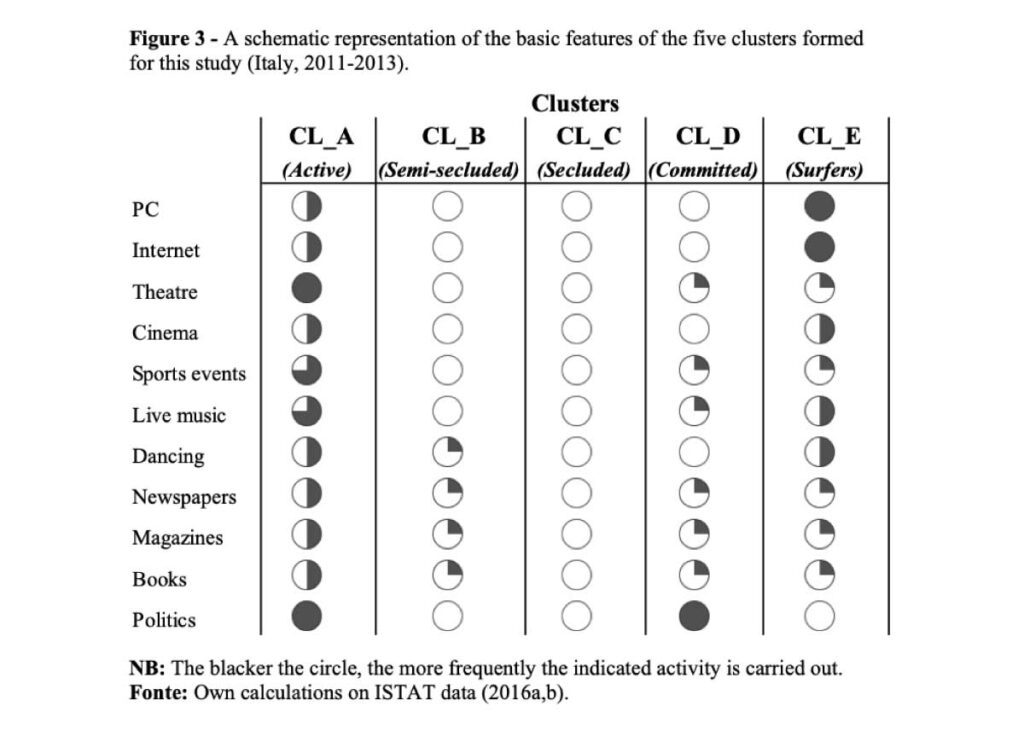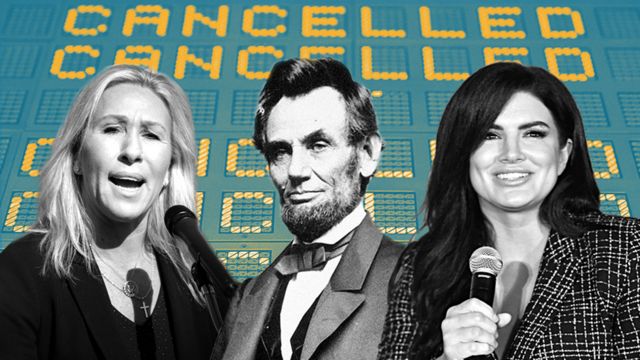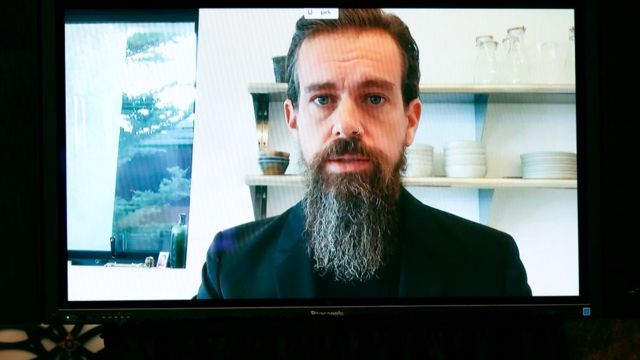16 февраля исполняется 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича Лескова. В массовом представлении это диковинный, немного даже экзотический литератор XIX века – автор «Левши», «Очарованного странника» и «Запечатленного ангела», писавший необычным, затейливым языком. Однако в сравнении с тем, что Лесков успел сделать за свою жизнь, это представление отражает даже не верхушку айсберга, а лишь малую ее часть.
По справедливости
Часто можно услышать, что Николай Лесков хотя и причислен к классикам, но на самом деле недополучил того признания, которого заслуживает как большой писатель. Так казалось и ему самому, так было и в ХХ веке, и сегодня ситуация не изменилась.
Объяснению причин этого положения и восстановлению справедливости посвящена недавно вышедшая биография Лескова «Прозёванный гений», написанная Майей Кучерской, филологом и популярным прозаиком. Сам за себя говорит тот факт, что это первая книга о Лескове в серии ЖЗЛ за почти целый век ее послереволюционного существования. У этого недооцененного классика нет даже полагающегося ему по статусу полного собрания сочинений: издание 30-томника остановилось пять лет назад на 13-м томе.
Сама Кучерская смотрит на перспективы популярности Лескова в наше время довольно пессимистично, полагая, что для сегодняшнего массового читателя он слишком сложен и прихотлив. И это грустно, ведь Лесков во многом очень современен: и в том, что он писал, и в том, что происходило в его собственной жизни.
Николай Семенович и cancel culture
Едва начав литературную деятельность, Лесков в полной мере ощутил на себе, что такое пресловутая cancel culture (культура отмены). Под эгидой cancel culture сегодня на Западе многие классические произведения искусства объявляются неполиткорректными, порочными, заслуживающими осуждения или даже забвения.
Во времена Лескова термина cancel culture, разумеется, еще не существовало. Но само явление, назови его хоть остракизмом, хоть травлей с привкусом благородного негодования, было хорошо известно. С переменой названий суть не меняется: когда кто-то позволяет себе высказывания или действия, не устраивающие определенную часть общества, эта часть общества наказывает провинившегося тем, что пытается выгнать его из информационного пространства и превратить в маргинала, тем самым как бы отменить (cancel) его существование. Причины могут быть разными: от действительно серьезных проступков до спорных реплик в прессе или соцсетях.
Два ярких примера: британская писательница Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, пошутившая в Twitter о трансгендерах, и голливудский актер Джонни Депп, над которым уже несколько лет тяготеют обвинения бывшей жены в домашнем насилии. Если Роулинг лишь побило градом возмущенной критики со стороны части фанатов и знаменитостей, то Деппа постигли более суровые кары: расторжение контрактов и исключение всех фильмов с его участием из каталога Netflix.
В нашей стране это явление пока еще не так могущественно, как на Западе. Но пример Лескова показывает, что российские интеллектуалы опередили модный тренд на целых полтора столетия.
Он жжет
Что же сделал Лесков, чтобы попасть в подобное положение? Сначала он, начинающий петербургский публицист, опубликовал в газете «Северная пчела» статью, из-за которой получил репутацию мракобеса, реакционера и провокатора. Это при том, что в бумагах начальника столичной полиции того времени Паткуля Лескову и его кругу дана такая оценка: «Крайние социалисты. Сочувствуют всему антиправительственному. Нигилизм во всех формах».
Заметка Лескова, вышедшая 30 мая 1862 года, касалась большого пожара в Апраксином дворе, произошедшего за два дня до этого. С первого взгляда в ней не было ничего крамольного, но журналист в полный голос сказал о том, о чем благоразумные люди предпочитали помалкивать: не исключено, что это был поджог, связанный с политическими студенческими волнениями, и что по городу ходят листовки с призывом к захвату власти, и что, в общем, хорошо бы во всем разобраться и снять тревожное напряжение в обществе.
Так Лесков неожиданно для себя попал между молотом и наковальней. Радикалы посчитали, что он требует расправы над поджигателями и даже подсказывает, где их искать, а власти показалось, что Лесков обвиняет ее в бездействии и дает непрошеные советы. Император Александр II написал на принесенном ему экземпляре «Северной пчелы»: «Не следовало пропускать, тем более что это ложь».
Лесков, еще вчера бывший на плохом счету в полиции как социалист и нигилист, становится изгоем в среде оппозиционно настроенных интеллектуалов.
Примечательно, что буквально за неделю до скандала он напечатал в той же газете текст под названием «Деспотизм либералов» – о нетерпимости оппозиционеров к иной точке зрения. Самоуверенный дебютант резко вступил в полемику с Николаем Чернышевским, который, пользуясь современной лексикой, был одним из главных лидеров мнений той эпохи. Лесков не слишком удачно подобрал термин, подразумевая под либералами радикально настроенных интеллектуалов. Но вот вышла пресловутая «пожарная» статья, и Николай Семенович сам вкусил плодов того деспотизма и собственной неосмотрительности.
Тридцатилетний провинциал, приехавший из Киева покорять столицу, был очень самоуверен – настолько, что не придавал большого значения тонкостям идеологической борьбы и окололитературной политики. Вскоре он попадает в еще больший скандал.
Хуже некуда
Вернувшись из зарубежной командировки, куда его на время опалы отправила «Северная пчела», Лесков публикует своей первый роман «Некуда» (1864) – о русских нигилистах, с которыми он еще недавно был в большой дружбе. Лесков пытается разобраться в явлении и отделить «хороших» нигилистов от «плохих», но в итоге получается памфлет, причем с прозрачными намеками на реальных людей: лидера так называемой Знаменской нигилистической коммуны Василия Слепцова, издательницу газеты «Русская речь» Евгению Тур (Салиас-де-Турнемир) и других.
Теперь ему, хотя и скрывшемуся за псевдонимом Стебницкий, достается куда серьезнее. Появляется слух, что этот роман написан по заказу Третьего отделения (политической полиции). Критик Дмитрий Писарев, еще один влиятельный лидер мнений своего времени, предостерегает свою аудиторию в «Русском слове» от какого-либо сотрудничества с автором «Некуда».
Позже Максим Горький говорил: «Это было почти убийство». На многие годы за Лесковым закрепляется репутация врага демократической мысли, ему закрыта дорога в большинство прогрессивных литературных журналов.
Удивительно, как это не сломило начинающего писателя. Возможно, дело в черте характера, на которую не раз сетовал родной брат Лескова Василий: Николай Семенович был упрям и всегда уверен в своей правоте. В истории с «Некуда» он полагал, что его оклеветали, хотя и признавал, что роман был написан впопыхах. А обида, нанесенная его недавним друзьям и благодетелям (Тур была одной из первых, кто публиковал очерки дебютанта Лескова), его, кажется, не смущала.
Вне тусовки
Пример Лескова иллюстрирует популярную теорию о том, что для достижения желаемого успеха важно уметь строить и поддерживать нужные связи и отношения. Проще говоря, нужно быть своим в «правильной тусовке». У Николая Семеновича с этим как-то не складывалось.
Он был энергичным и общительным, но катастрофически не умел маневрировать. Ему недоставало такта или того, что можно назвать социальным инстинктом, который подсказывает человеку, какой поступок может выйти ему боком. Веря в силу слова (он всегда был против искусства ради искусства и считал, что литература преображает мир), он удивлялся, когда его слово било кого-то слишком сильно.
У Лескова не получалось примкнуть к какому-нибудь определенному идейному лагерю, который бы обеспечил ему защиту и продвижение. «Забаненный» демократами, он сближался с консерватором Михаилом Катковым, славянофилом Иваном Аксаковым, но и с ними часто не находил общего языка.
Для консерваторов он был слишком «протестным», слишком много критиковавшим российские порядки. Для социалистов был охранителем, не признававшим революций. Для народников и славянофилов он слишком скептически относился к идее о том, что спасение России придет снизу, от народа.
Народ в его рассказах часто темная, косная сила, привыкшая к плети и не ценящая свободу и человеческое обращение (например, рассказ «Язвительный»). Лесков любил не абстрактный «народ вообще», что свойственно кабинетным идеалистам, а рождающихся в нем самородков, оригиналов, чудаков и богоискателей. В его рассказах они существуют и благодаря, и вопреки окружающей их действительности. Левша, Фигура из одноименных рассказов, Александр Рыжов из «Однодума», герои «Инженеров-бессребреников» и другие. Это не масса, это отдельные бриллианты, те самые праведники, без которых, по пословице, не стоит село. «Ужасно и несносно видеть одну дрянь в русской душе, ставшую главным предметом новой литературы, – писал Лесков, – и пошел я искать праведных».
Неуживчивый Лесков, не примкнувший ни к одному из лагерей, оказался одним из самых свободомыслящих, независимых русских писателей. Не угодил он и советской власти: помня литературно-политические скандалы раннего Лескова, она относилась к нему прохладно.
Бичеватель
От полной «отмены» во времена СССР его спасала репутация критика российской действительности при царском режиме, коллеги Салтыкова-Щедрина. Во многом этим он ценен и сегодня, когда чиновники так напоминают персонажей «Истории одного города». Читая рассказы и очерки Лескова, не перестаешь удивляться тому, что, за какой текст ни возьмись, все они актуальны, все про сегодняшний день. Печально только, что все это объясняется не столько прозорливостью писателя, сколько тем, что многие вещи повторяются из века в век.
Вот, например, герой рассказа «Бесстыдник» (1877) некий Анемподист Петрович, характеризуемый третьим лицом как «большого ума человек, почти, можно сказать, государственного, и в то же время, знаете, чисто русский человек: далеко вглубь видит и далеко пойдет». Он был интендантом в Крымскую войну и не только не смущался тем, что хорошо заработал тогда на махинациях, обкрадывая солдат, офицеров и государство, но и даже бахвалился этим в обществе.
Тогда как благородного героя повествования разрывает на части от такой наглости, Анемподист Петрович неожиданно укоряет его в том, что он, дескать, «унижает русских». Герой едва не теряет дар речи от такого оборота, а интендант охотно развивает свою мысль. Оказывается, унижение проявляется в том, что «вы изволите делить русских людей на две половины: одни будто все честные люди и герои, а другие все воры и мошенники», и это, оказывается, несправедливо: «Наши русские люди, мне кажется, все без исключения ко всяким добродетелям способны… мы, русские, как кошки: куда нас ни брось – везде мордой в грязь не ударимся, а прямо на лапки станем; где что уместно, так себя там и покажем: умирать – так умирать, а красть – так красть. Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы это исполняли в лучшем виде – вы сражались и умирали героями и на всю Европу отличились; а мы были при таком деле, где можно было красть, и мы тоже отличились и так крали, что тоже далеко известны».
Воровство из казны преподносится чуть ли не как возложенная свыше миссия. Такого рода логика и такого рода патриотизм выглядит очень современным.
Опыт
Лесков не зря гордился своим жизненным опытом. Он был у него действительно богатым для литератора того времени. И Достоевского мог упрекнуть в незнании православного быта, и народников – в незнании народа, и социальных критиков – в том, что они плохо представляют, как работают маховики и колеса государственной машины.
До того как стать писателем, Лесков два года проработал писарем в канцелярии Орловской палаты уголовного суда. Через него проходили сотни историй преступлений, больших и мелких. Затем семь лет в рекрутском столе ревизского отделения Киевской казенной палаты. Занимался набором солдат в армию, насмотревшись на истории коррупции и чиновничьего произвола, одну из которых он позже описал во «Владычнем суде». Затем, оставив государственную службу, три года колесил по стране в качестве сотрудника коммерческой фирмы «Шкотт и Вилькенс» (Шкотт – обрусевший англичанин, его родственник). Неудивительно, что многие тексты Лескова оформлены как записанные рассказы того или иного путешествующего чиновника, развлекающего своих попутчиков на постоялом дворе или в какой-то подобной обстановке. Именно таких историй молодой Лесков наслушался за три года работы и потом еще лет 20 строил на них свои произведения.
«Смиренный ересиарх»
Еще один актуальный сегодня круг тем лесковского творчества связан с религиозностью, личной и официальной, с вопросами отношения Церкви и государства. Трудно найти другого русского классика, который так много сил отдал бы этому вопросу и был бы в нем так подкован.
Начав как «друг Церкви» (по собственному выражению) и ее искренний помощник, Лесков закончил полным скептицизмом в отношении официальных структур и отстаиванием идеи «духовного христианства», то есть личного, глубоко осознанного, пусть даже и еретического, по мнению представителей государственной религии (а она в царской России была государственной в прямом смысле слова). Письма любил подписывать так: «смиренный ересиарх Николай».
На Лескова, безусловно, повлияла история его отца, потомка священнического рода, который решительно отмежевался от духовного сословия сразу по окончании семинарии в Севске. Оставшись человеком верующим, Семен Дмитриевич Лесков предпочел уйти в чиновники, но никогда не иметь дел с официальной религиозной структурой.
В многочисленных текстах Лесков пытается осмыслить, как это вообще возможно: из, по сути, самого главного и высокого в жизни человека – веры и духовной жизни – сделать нечто казенное, пустое, отталкивающее.
Он автор едва ли не лучшего русского романа о священнослужителях – хроники «Соборяне». И примечательно, что главный герой этого романа, протоиерей Савелий Туберозов, пламенный и честный христианин, оказывается под запретом, страдает за обличение и светского безверия, и церковного формализма, «торговли во храме совестью».
Лесков может быть язвительным, но может показывать явную симпатию к тем, кто искренне ищет Бога, кто честно следует евангельским заповедям. Это могут быть и реальные церковные иерархи, которых он описывает, например, известные своей простотой и добротой митрополит Киевский Филарет (Амфитеатров), недавно причисленный к лику святых, или пермский епископ Неофит (Соснин). Это может быть изгнанный за правду учитель-немец Иван Яковлевич из рассказа «Томленье духа», отец Савва из «Некрещенного попа», старообрядцы, или штундисты (последователи религиозного течения протестантского толка на юге России), о которых он также много писал.
В одном из лучших рассказов Лескова, «На краю света», проводится мысль, что благодать действует вне официальных рамок: подвиг спасения ближнего совершает именно некрещеный «дикарь», а не его крещеные соплеменники.
Официальной церкви деятельность Лескова не нравилась, и шестой том его сочинений (с «Мелочами архиерейской жизни») был сочтен «дерзким памфлетом на церковное управление в России» и запрещен цензурой. В последние годы Лесков был большим поклонником идей Льва Толстого.
Мастер слова
Язык Лескова – то, что в нем замечают в первую очередь. Он предвосхитил модернистскую работу над формой и был примером для Ремизова, Олеши, Платонова, Бабеля, Пильняка и других ярких стилистов ХХ века. При жизни ему этот самый прихотливый язык ставили в укор. Критики писали, что он занимается плетением чудных словес, чтобы прикрыть скудность идей. Или же пренебрежительно приписывали его к этнографическому ведомству, как последователя Владимира Даля.
Но для Лескова это не было украшательством, это была форма, адекватная содержанию. Люди разных профессий, сословий говорят по-разному, и, воспроизводя их речь или внутренний монолог, он добивался правдивости и художественной достоверности. Он был даже не стилист, а полистилист, владевший всей гаммой языка, от канцелярита до диковинного узорочья.
Лесков, наверное, самый русский писатель, ведь его слог невозможно по-настоящему перевести ни на какой другой язык. Читать его – настоящее удовольствие и радость. Возможно, это единственное обстоятельство, которое делает его несовременным. Ведь чтение сейчас перестало быть удовольствием, теперь это поглощение информации. Могучие умы работают над тем, чтобы сделать тексты более доступными и легкоусвояемыми. Могут ли выжить в этих условиях книги Лескова? Одно из самых очевидных их достоинств теперь становится их главным «недостатком». Но Лесков, безусловно, выживет. Должен же кто-то отвечать за настоящую красоту в мире удобного и одноразового.
Источник