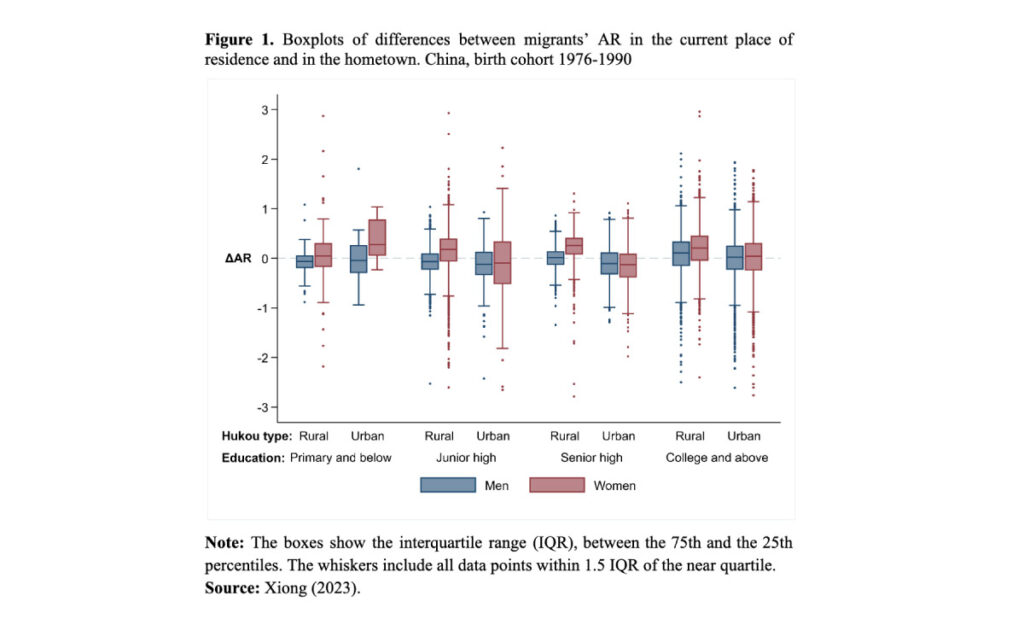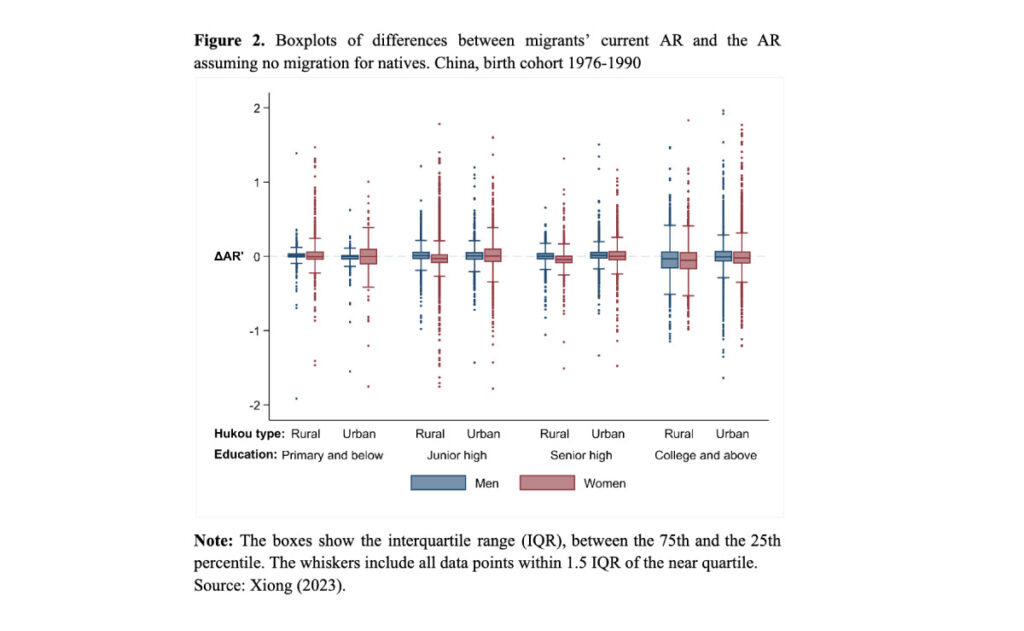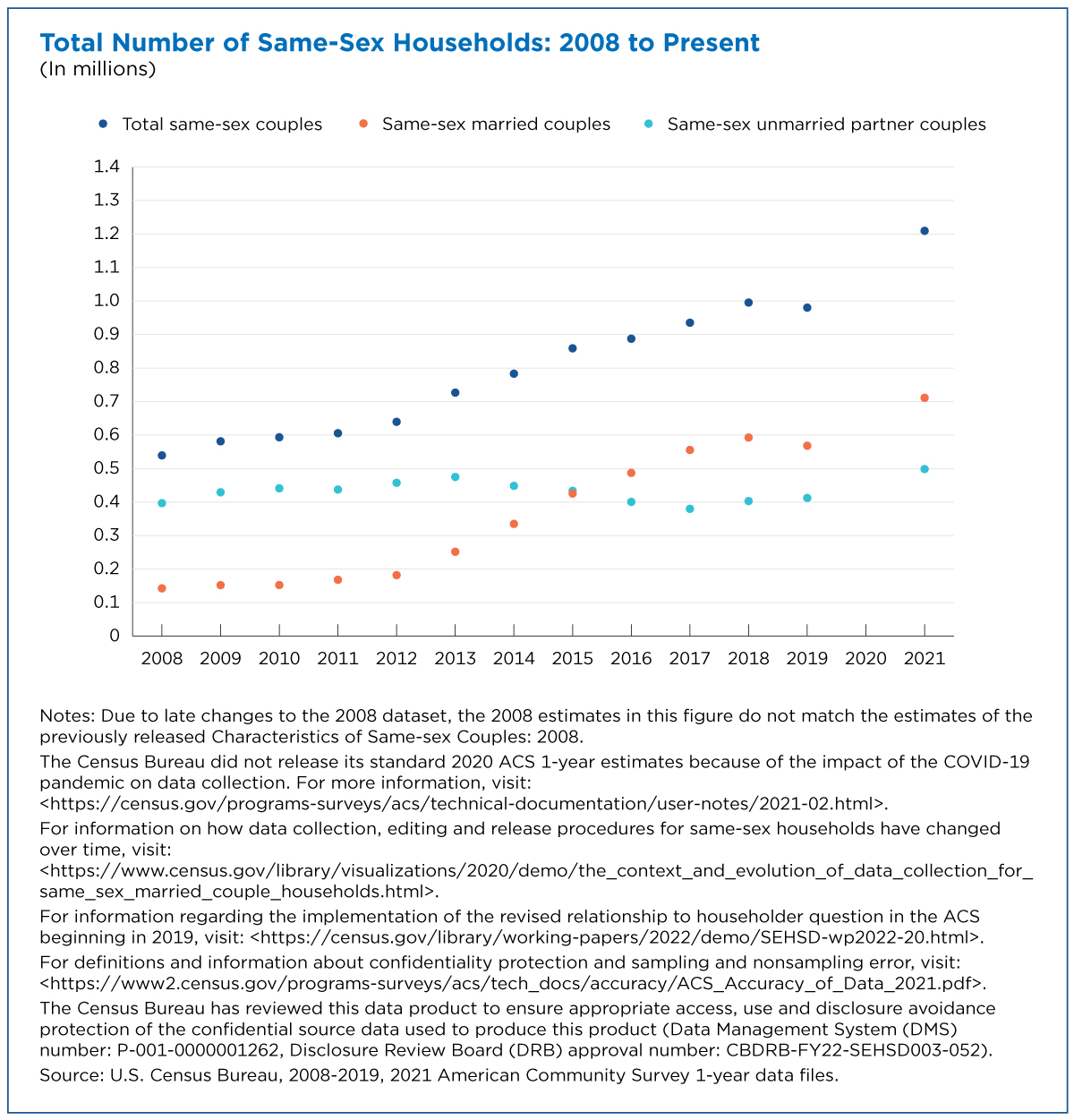«Консервативная политика вряд ли даст результаты»: как в России повышают рождаемость
И почему это не работает
В 2021 году в России ввели новые меры по повышению рождаемости и поддержке семей. Материнский капитал теперь полагается после рождения первого ребенка, до конца августа на каждого
школьника родителям должны выплатить по 10 тысяч рублей, назначаются новые пособия. Но позволят ли такие меры сделать то, к чему так давно стремится наша власть, — повысить рождаемость в стране?
Зачем повышать рождаемость
Российские политики и общественные деятели часто связывают рождаемость с динамикой численности населения, которая на данный момент в России отрицательная (то есть население у нас сокращается). Повышение рождаемости они описывают как то, что может остановить это сокращение. При этом, на самом деле, рождаемость не единственный способ повлиять на численность населения, утверждает Алла Макаренцева, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. На него влияет еще и миграция, экономическое благосостояние людей, уровень безработицы в стране, динамика смертности и продолжительности жизни, разные кризисы и многое другое. [редкий случай, когда начальство поумнее ведущего научного сотрудника]
При этом рождаемость все же остается одним из ключевых факторов, которые влияют на изменение численности населения, утверждает Сергей Захаров, заместитель директора Института демографии имени А. Г. Вишневского в Высшей школе экономики. Другой вопрос, нужен ли нам сегодня сам по себе его прирост — и для чего. Сергей Захаров говорит, что это вопрос скорее философский и на деле не очень простой. В современной России среди политических элит популярны дискуссии о геополитике, национальных интересах, укреплении обороноспособности и возможности сопротивляться внешнему воздействию. Цель повышать рождаемость исходит именно из этой идеологии. По словам Сергея Захарова, национализм и пронатализм (политика, поощряющая деторождение) исторически идут рука об руку — и уже не одно столетие.
Существует аргумент, что более высокая рождаемость необходима, чтобы как-то затормозить старение населения, которое стало вызовом для обществ и экономик по всему миру. Сергей Захаров подчеркивает, что старение населения — это не только глобальный вызов, но и большой успех человечества. Благодаря развитию цивилизации и медицины люди получили возможность жить дольше, и именно это решающим образом обеспечивает старение населения в современных развитых обществах (а не снижение рождаемости, как было прежде). [но таки было + РФ же трудно назвать современным развитым обществом, да и общестом вообще]
Другой вопрос, все ли страны готовы к тому, чтобы быть успешными при стареющих обществах, насколько в них к этому приспособлена экономика, социальные службы, сами люди и их семьи. В российском обществе, считает Сергей Захаров, они совершенно к этому не приспособлены, и это (в том числе) заставляет политиков думать о рождаемости.
Что происходит с рождаемостью в России
По словам Аллы Макаренцевой, с 2015–2016 годов рождаемость у нас снижается. Причин у этого может быть много. С одной стороны, это следствие возрастной и поколенческой структуры нашего общества. Поколение людей, рожденных в 1990-е годы, малочисленное и просто физически не может иметь много детей. В свою очередь, именно люди, рожденные в 1990-е, сейчас «на пике репродуктивных возрастов» — то есть в том возрасте, когда принято создавать семьи и обзаводиться детьми. [собственно, рождаемость нечто другое, чем число рождённых детей] При этом многие из тех, кто был рожден в 1990-е, сами выросли в малодетных семьях [будто бы где-то есть люби из других семей]. Исследования показывают, что этот опыт тоже может влиять на то, сколько детей они захотят иметь (срабатывает так называемая ловушка низкой рождаемости).
Кроме того, меняются и установки россиян, их представления о семье, своем будущем, о том, как нужно строить жизнь, отмечает Алла Макаренцева. Например, люди молодого поколения сейчас позже вступают в брак (а именно с браком чаще всего связано рождение первых детей).
Людям поколения 1990-х свойственна так называемая серийная моногамия
[не учи ацаи*аццо, людям поколения 90х едва за 30 + над тезисом написано нечто удивительно противоречащее] Так обозначают ситуацию, когда человек в течение жизни вступает в ряд романтических отношений. Их цель состоит не обязательно в создании семьи, они нужны скорее для эмоциональной поддержки, совместного времяпрепровождения, общения. Серийная моногамия ведет к откладыванию браков [
двойка по демографии], а с ними и рождения первых детей. Впрочем, средний возраст, в котором российские матери рожают первого ребенка, растет еще с 1990-х.
Россия во всех этих вещах, кстати, не «впереди планеты всей», это часть глобальной тенденции. В целом в развитых странах
к концу 1960-х годов завершился процесс перехода к идеалу двухдетной семьи, и с тех пор ситуация принципиально не меняется, подчеркивает Сергей Захаров. А рост среднего возраста рождения каждого ребенка происходит по всему миру. При этом, говорит Алла Макаренцева, этот возраст не напрямую связан с тем, сколько детей в результате будет у женщины. Есть страны, в которых женщины рожают после тридцати, но имеют в среднем больше детей, чем россиянки.
Число никогда не рожавших женщин в России тоже от поколения к поколению увеличивается, говорит Сергей Захаров, и это тоже происходит в рамках глобальных тенденций. При этом, подчеркивает Захаров,
бездетные до сих пор не оказывали значительного влияния на показатели рождаемости.
Иными словами, обвинять в низкой рождаемости людей, которые называют себя чайлдфри, не стоит
Они тут совсем не первопричина и не угроза. В целом, по словам Сергея Захарова, в России происходит то же, что и в других странах: растет вариативность жизненных и семейных сценариев и стратегий. В обществе появляется все больше разнообразия, выбора, например все более многообразными становятся идеи о том, как может выглядеть семья.
Жесткая норма «до 25 лет выйти замуж и родить ребенка» больше не работает. Параллельно растет ценность самореализации и счастья каждого индивидуального человека.
Работают ли выплаты, например материнский капитал
И демографы, и социологи сходятся в том, что так называемые монетарные меры (выплаты, пособия, материнский капитал) не могут существенно повлиять на рождаемость в долгосрочной перспективе. Сергей Захаров считает, что материнский капитал никак не поколебал то, как выглядит российская семья, сколько детей в ней в среднем появляется. Единственное, что смог серьезно изменить материнский капитал, — это так называемый календарь рождения детей. Иными словами, семьи, которые и так планировали завести, например, второго ребенка, решили сделать это пораньше, чтобы не упустить возможность получить поддержку. Это обеспечило короткий всплеск рождений, который, что закономерно, обернулся снижением числа рождений после того, как ажиотаж спал, подчеркивает Сергей Захаров.
В среднем, по словам Захарова, число рождений, приходящихся на одного родителя за всю его жизнь, уже давно меняется слабо. Так, в Швеции 1,9–2,0 рождения в расчете на одну женщину поддерживается уже шесть десятилетий, во Франции более сорока лет наблюдается в среднем 2 рождения. В России более двух десятилетий итоговый показатель колеблется в интервале 1,6–1,7 рождения на человека.
Что на самом деле повышает рождаемость
Алла Макаренцева подчеркивает, что меры, которые действительно могли бы серьезно повлиять на рождаемость в России, связаны в первую очередь не с выплатами [см ниже], а с развитием важных институтов социальной поддержки. Речь идет о женских консультациях и роддомах, детских поликлиниках (и медицине в целом), а также об образовании, социальной поддержке. Макаренцева отмечает, что очень важны институты, которые позволяют родителям полноценно совмещать воспитание детей и работу: это ясли, детские сады, группы продленного дня в школах [предполагается, что за все эти плюшки никто не платит].
Анна Ривина, общественная деятельница и руководительница центра «Насилию.нет»*, подчеркивает, что в России не развиты и институты, которые могли бы обеспечить безопасность в семье и поддержку отдельным женщинам и детям в кризисных ситуациях. Например, в России не выстроена система, которая помогла бы бороться с проблемой домашнего насилия и профилактировать эту проблему. Катастрофически не хватает кризисных центров для женщин, которые оказались в ситуации насилия: например, в Москве такой центр всего один на 12 миллионов населения. Для сравнения: в Швеции на 10 миллионов населения приходится 200 кризисных центров. Не существует никакого специального законодательства или социальной программы, которые предупреждали бы насилие в семье. [это дядька из Киева?]
Для долгосрочных эффектов в сфере рождаемости нужно, чтобы институты для поддержки семей с детьми еще и вызывали доверие, считает Екатерина Бороздина, доцент факультета социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. [evidence based?]
В современной России с такими институтами проблема. Люди не доверяют ни бесплатным врачам, ни детским садам, ни школам и идут на разные сложные ухищрения, чтобы обеспечить детям тот уровень образования и медицины, который их будет устраивать [у меня под окном децкий сад, туда каждый день приводят детей]. Современное российское государство предпочитает не менять эту ситуацию кардинально, а скорее делегировать заботу о детях семье, в какие-то моменты поддерживая ее деньгами [то-есть, делегировать не надо щтоль? Или Бороздина белены объелась].
В целом развитие институтов — это сложная и требующая масштабных финансовых вложений задача, подчеркивает Екатерина Бороздина.
Назначить новое пособие зачастую оказывается проще, чем реформировать целую социальную сферу
Впрочем, важно отметить, что все же есть в России и области, в которых ситуация по-настоящему улучшается. Например, это сфера родовспоможения, в последние годы хорошо профинансированная. Екатерина Бороздина с коллегами проводила исследование трансформаций системы родовспоможения и пришла к заключению, что «страшилки» о роддомах [они и раньше были страшилками], в которых нет ни постельного белья, ни простых лекарств, а персонал хамит и грубит, уходят в прошлое, а качество помощи в них растет. Впрочем, ситуация остается неравномерной по стране, а курс реформ все время изменяется — что не добавляет доверия всей системе со стороны граждан.
Работает ли пропаганда «семейных ценностей»
Сергей Захаров подчеркивает, что пропагандистские меры в ситуации с рождаемостью работают плохо, особенно если они идут против распространенных в обществе жизненных стратегий и установок, в том числе в сфере образования, занятости и самореализации. Если среди людей распространен идеал семьи «родители и два ребенка, мальчик и девочка», то им сложно навязать модель семьи с пятью детьми.
В российском обществе, как уже было сказано, жизненные сценарии сейчас становятся все более многообразными. Когда есть такая тенденция, становится сложнее навязывать единообразие, жесткую норму и ограничение выбора. Если государство будет это делать, например жестко навязывать, как должна выглядеть «традиционная семья» (и выставлять маргиналами других), общество станет меньше ему доверять и будет чувствовать, что власти пытаются ограничить личную свободу людей, говорит Сергей Захаров. [таки есть общество]
Любая политика или пропаганда, которая идет резко против существующих общественных тенденций, обречена на неуспех, подчеркивает ученый.
Именно поэтому консервативная семейная политика и пропаганда в современной России вряд ли дадут результаты. Многие ее методы уже многократно были испробованы в XIX и ХХ веке — и не подходят для современного, быстро меняющегося общества. Российскому обществу скорее нужна политика, которая будет учитывать складывающееся многообразие и подкреплять его работающими институтами, считает Сергей Захаров.
* Центр «Насилию.нет» признан Минюстом РФ иноагентом.